© 2020 ENOTABLE
КНИЖНЫЙ КЛУБ
Обкатаем на России
Один из примеров того, как британцы испытывали новые военные технологии и тактики во время интервенции в Гражданскую войну
В новой книге «Маленькая мерзкая война: вмешательство Запада в гражданскую войну в России» Анна Рид приводит немало интересных фактов, которые сейчас, наверное, подзабылись не только там, но и у нас. Вот, например, история изобретения, которое решили обкатать на второстепенном тогда для Британии театре военных действий — на Балтике, в поддержку белых (и эстонцев) против красных в 1919 г.
«Пока [в британском Правительстве и командовании] все вокруг спорили [о способах поддержки белогвардейцев], адмирал Коуэн втихомолку приступил к реализации собственного плана — одного из самых смелых в британской военно-морской истории. Его источником послужило революционное достижение в конструкции лодок — корпус глиссирующего типа. Сегодня это обычное явление — ЖНЛы (жёстко-корпусная надувная лодка), скоростные катера и т. п. — глиссирующие корпуса имеют форму неглубокой буквы V и при достаточно быстром движении приподнимаются над водой, придавая дополнительную скорость. Прототипы были запатентованы в 1870-х годах, но для практических целей пришлось дождаться изобретения двигателя внутреннего сгорания. Спроектированные и построенные Джоном Торникрофтом на его верфях на Темзе, первые действующие глиссирующие лодки дебютировали на Олимпийских играх 1908 года. Когда началась война, стало ясно, что они обладают военным потенциалом; Торникрофта попросили разработать проект, и в августе 1916 года он поставил первые двенадцать образцов. На острове Осеа, в устье реки Блэкуотер в Эссексе, была создана тренировочная база, и «скиммеры» — официально называвшиеся катерами береговой обороны, или CMB (Coastal Motor Boat) — приступили к работе, преследуя немецкие суда в прибрежных водах и ставя дымовые завесы во время рейда на Зебрюгге в апреле 1918 года.
Уолтер Коуэн (англ. Sir Walter Henry Cowan, 1871 — 1956) — британский адмирал.
В январе 1919 года его эскадра была прислана на Балтику. 1-я эскадра действовала на Балтике до конца 1919 года, сыграв заметную роль в гражданской войне в России. За успешные действия ему был пожалован титул баронета.
В январе 1919 года его эскадра была прислана на Балтику. 1-я эскадра действовала на Балтике до конца 1919 года, сыграв заметную роль в гражданской войне в России. За успешные действия ему был пожалован титул баронета.
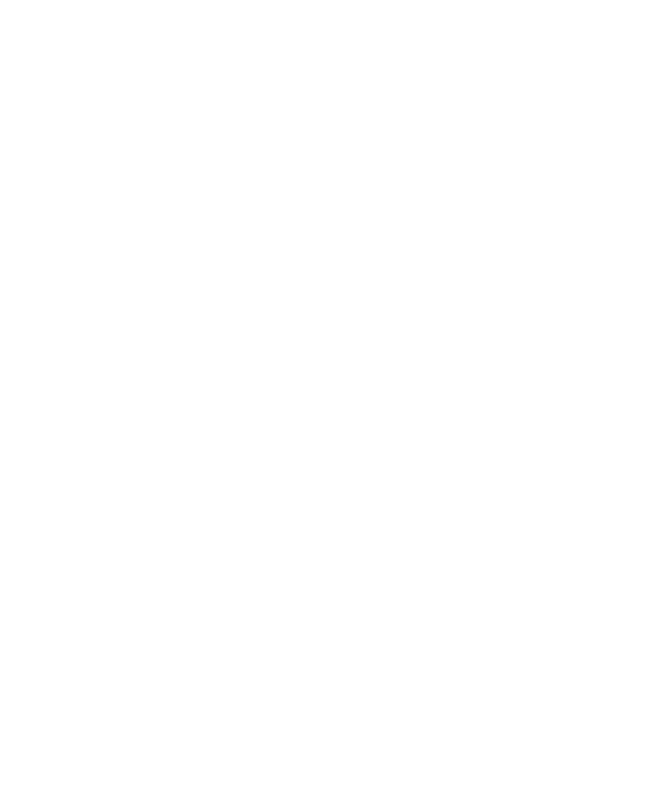
Их отправка на Балтику была окружена секретностью. В феврале 1919 года двадцатидевятилетний лейтенант Гас (Огастэс) Эгар, ветеран Зеебрюгге и инструктор в Осеа, получил приказ явиться в Адмиралтейство и зайти в военно-морскую разведку. Мэнсфилду Каммингу, главе новой секретной разведывательной службы, требовался человек, который мог бы доставить два катера CMB в Финляндию и использовать их для курьеров в Петрограде, где под прикрытием работал британский агент. (Как позже выяснил Эгар, это был музыкант Пол Дьюкс, бывший помощник главного дирижера Мариинской оперы). Вернувшись в Осеа, Эгар подобрал двух лейтенантов, мичмана и двух опытных механиков. Выдав себя за продавцов моторных лодок, они отправились в Гельсингфорс на шведском каботажном судне. Два 12-метровых катера следовали за ними на небольшом грузовом судне, выкрашенные в белый цвет так, чтобы выглядеть как прогулочные катера.
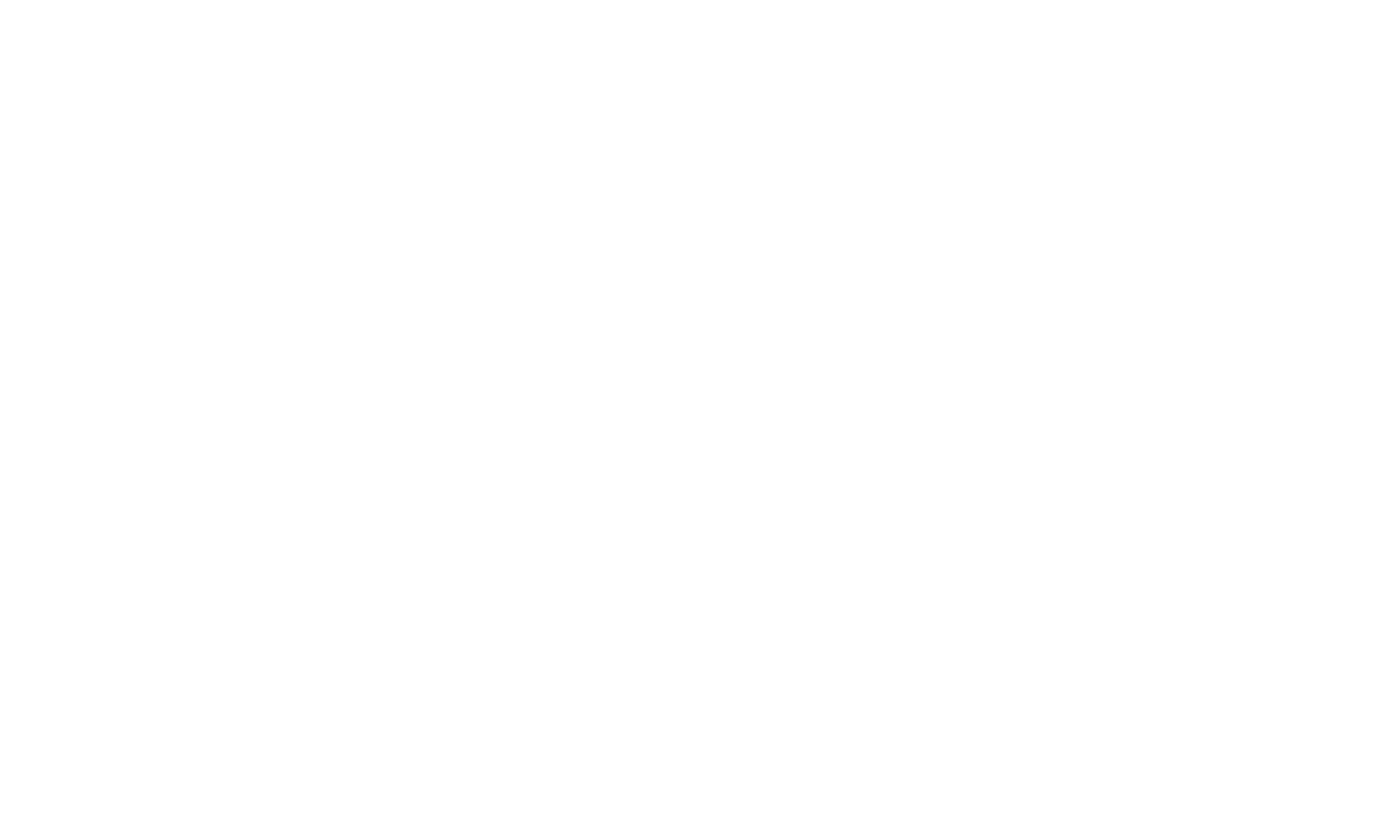
Катер Coastal Motor Boat 4 (1916), выставленный в Имперском военном музее в Даксфорде. Вид с кормы, где видна рампа для спуска торпед.
После консультаций с брит. консульством в Гельсингфорсе Эгар выбрал для своей базы закрытый парусный клуб в местечке Терийоки, тихом курортном поселке в сосновых лесах к западу от российско-финской границы (ныне Зеленогорск). Их присутствие не могло быть тайным, поскольку дачи были заселены, а поблизости располагался финский гарнизон. Но оно могло быть незаметным, поскольку высокий каменный волнорез скрывал маленькую гавань от моря. Один из эсминцев Коуэна отбуксировал КМБ из финского порта, где они были разгружены, в Бьёрке (ныне Приморск). Там их покрасили в серый цвет и, вопреки указаниям Камминга, оснастили торпедами, спрятав под брезентовыми чехлами.
Теперь Эгар должен был спланировать маршрут для курьеров Камминга в Петроград. С моря город охраняла островная военно-морская база Кронштадт, соединенная с южным и северным берегами Финского залива линией морских крепостей. Главный судоходный канал в город лежал на юге, он тщательно просматривался и был сильно заминирован. С севера же проход между фортами преграждал только подводный волнорез. Эгар понимал, что, поскольку осадка его катеров менее метра, то, если они не попадут в поле зрения прожекторов фортов, они смогут без труда проскочить над волнорезом. Это позволило бы высадить первого курьера — несуразно заметного (184 см) футболиста-олимпийца Петра Соколова — прямо в пригороды Петрограда, на один из островов в устье Невы. Сделать это нужно было как можно скорее, ведь уже был конец мая, а через несколько недель в городе будет круглосуточно полусветло. Командир финского гарнизона, полковник Сарин, предложил местному рыбаку/контрабандисту выступить в роли лоцмана.
Теперь Эгар должен был спланировать маршрут для курьеров Камминга в Петроград. С моря город охраняла островная военно-морская база Кронштадт, соединенная с южным и северным берегами Финского залива линией морских крепостей. Главный судоходный канал в город лежал на юге, он тщательно просматривался и был сильно заминирован. С севера же проход между фортами преграждал только подводный волнорез. Эгар понимал, что, поскольку осадка его катеров менее метра, то, если они не попадут в поле зрения прожекторов фортов, они смогут без труда проскочить над волнорезом. Это позволило бы высадить первого курьера — несуразно заметного (184 см) футболиста-олимпийца Петра Соколова — прямо в пригороды Петрограда, на один из островов в устье Невы. Сделать это нужно было как можно скорее, ведь уже был конец мая, а через несколько недель в городе будет круглосуточно полусветло. Командир финского гарнизона, полковник Сарин, предложил местному рыбаку/контрабандисту выступить в роли лоцмана.
Эгар совершил первую вылазку в безлунную ночь 13 июня, после того как Сарин сообщил ему, что войска, занимающие Красную Горку, крупный сухопутный форт на другом берегу залива, только что поднялись против красных. Полагая, что это восстание не дает покоя врагу, и надев кожаные куртки и кепки, чтобы издалека выглядеть большевистскими связными, Эгар, Соколов, механик Хью Били и лоцман отправились на одноместном катере в 10.30 вечера. Преодолев двенадцать миль до фортов примерно за полчаса, они благополучно проскочили над защитным минным полем, затем снизили скорость, чтобы спокойно пройти между самими фортами. Прожекторы не мигали, и, как только они вышли из зоны видимости, Эгар снова поддал газу, снизив скорость только тогда, когда впереди замелькали городские огни. Подкравшись к низкому черному контуру одного из невских островов, он подошел к камышовым отмелям и пришвартованным баржам. Спустили шлюпку, и Соколов поплыл к берегу. Он должен был спрятать шлюпку, передать сообщение агенту Дьюксу и вернуться на то же место через сорок восемь часов. Когда до наступления темноты оставалось всего два часа, Эгар повернул к дому.
На обратном пути он повернул на юг, к мятежной Красной Горке. Поскольку из-за бунта ее орудия были направлены в сторону берега, она была уязвима с моря, и, конечно же, вдали показались два линкора Красного флота, «Андрей Первозванный» и «Петропавловск», стоящие на якоре и готовые к бомбардировке. По словам Эгара, его осенила идея. С торпедой и полной неожиданностью на его стороне, почему бы не атаковать? Он приказал зарядить торпеду и уже набирал скорость, когда раздался грохот, и вздыбленный катер снова опустился на воду. Отказал двигатель. Через полчаса, в течение которого группа ожидала, что в любой момент ее заметят с близлежащего маяка или с одного из эсминцев сопровождения линкора, Били снова запустил двигатель, и они смогли вернуться в Териоки.
На обратном пути он повернул на юг, к мятежной Красной Горке. Поскольку из-за бунта ее орудия были направлены в сторону берега, она была уязвима с моря, и, конечно же, вдали показались два линкора Красного флота, «Андрей Первозванный» и «Петропавловск», стоящие на якоре и готовые к бомбардировке. По словам Эгара, его осенила идея. С торпедой и полной неожиданностью на его стороне, почему бы не атаковать? Он приказал зарядить торпеду и уже набирал скорость, когда раздался грохот, и вздыбленный катер снова опустился на воду. Отказал двигатель. Через полчаса, в течение которого группа ожидала, что в любой момент ее заметят с близлежащего маяка или с одного из эсминцев сопровождения линкора, Били снова запустил двигатель, и они смогли вернуться в Териоки.
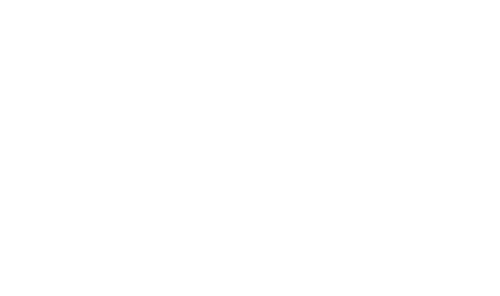
Бубликов Н. Е. Линейные корабли «Андрей Первозванный» и «Петропавловск» ведут огонь по мятежному форту «Красная Горка». 1919 год.
Вечером следующего дня Эгар и его команда снова отправились в Петроград за Соколовым, и поездка прошла без происшествий. На следующее утро обстрел Красной Горки возобновился. Приглашенный Сариным на свой наблюдательный пункт на колокольне близлежащей церкви, Эгар наблюдал в подзорную трубу за далекими клубами дыма. Сарин и Соколов отчаянно требовали, чтобы эскадра Коуэна начала действовать, утверждая, что если помочь Красной Горке выстоять, то и кронштадтские моряки поднимутся против большевиков. Эгар объяснил, что, имея в своем распоряжении только легкобронированные крейсера, Коуэн не мог выступить против линкоров, но про себя «сразу же подумал о наших двух катерах и торпедах, которые они несли. Наверняка они, подобно паре шершней, могут обеспечить то самое жало, которое отгонит эти бомбардировочные корабли красных?» В течение дня он отправил Каммингу по радио две шифротелеграммы, объясняя необходимость немедленных действий и то, что даже если катера будут потеряны, у него будет достаточно времени, чтобы отправить замену для следующего курьерского рейса. Ответы Камминга были однозначны: «Не предпринимать никаких наступательных действий без прямых указаний СНО [старшего офицера ВМС] Балтики» и «Лодки не должны использоваться ни для чего другого, кроме разведки». Полагаясь на то, что Коуэн его поддержит, Эгар все равно действовать, рассчитав время выхода катеров так, чтобы прибыть в Красную Горку на рассвете, когда света будет достаточно, чтобы видеть, но недостаточно, если повезет, чтобы быть замеченным. Но через полчаса операцию пришлось прервать, когда одна из лодок налетела на плавающий предмет — вероятно, мину-«пустышку» — и сломала гребной вал. Весь следующий день Агар провел на колокольне, внутренне размышляя, стоит ли повторить попытку с одним катером и одной торпедой. Что происходило на Красной Горке, тоже было неясно: бомбардировка приостановилась, так как два линкора были заменены тяжелым крейсером «Олег». Он решил рискнуть и вечером того же дня — 17 июня — отправился в путь на оставшейся лодке вместе с Били и лейтенантом Джоном Хэмпширом.
На расстоянии 450 метров он выстрелил, через мгновение после того, как «Олег» произвел свой первый залп. Мы оглянулись… и увидели большую вспышку за носовой трубой крейсера, за которой почти сразу же последовал огромный столб черного дыма… Мы попытались прокричать «гип-гип ура», но едва услышали себя за грохотом двигателей. Вернувшись на базу, Эгар передал сигналы Каммингу и Коуэну: «Атаковали „Олег“ и попали в него». На следующий день Эгар полетел на финском гидросамолете, чтобы оценить повреждения «Олега». «Машина снизилась до 600 м, и как передать мои чувства, когда на том самом месте, где я атаковал ее, мы совершенно отчетливо увидели корпус крейсера, лежащий на боку, как большой мертвый кит».
На расстоянии 450 метров он выстрелил, через мгновение после того, как «Олег» произвел свой первый залп. Мы оглянулись… и увидели большую вспышку за носовой трубой крейсера, за которой почти сразу же последовал огромный столб черного дыма… Мы попытались прокричать «гип-гип ура», но едва услышали себя за грохотом двигателей. Вернувшись на базу, Эгар передал сигналы Каммингу и Коуэну: «Атаковали „Олег“ и попали в него». На следующий день Эгар полетел на финском гидросамолете, чтобы оценить повреждения «Олега». «Машина снизилась до 600 м, и как передать мои чувства, когда на том самом месте, где я атаковал ее, мы совершенно отчетливо увидели корпус крейсера, лежащий на боку, как большой мертвый кит».
Капитан Эгар, катер CMB 4 в музее и крейсер «Олег»
Но над Красной Горкой развевались красные флаги; форт сдался, и потопление произошло слишком поздно. На обратном пути самолет сломался, и Эгар вернулся в Бьерке только после полуночи. Коуэн, встретивший его в пижаме, не был разочарован новостями: Красная Горка, вероятно, все равно долго бы не продержалась, а теперь красные знали, что если они «покажут нос за пределами Кронштадта», то их ждет «укус». Он также рекомендовал Эгара к награждению Крестом Виктории.
Коуэн тем временем разрабатывал новый дерзкий план — налет на сам Кронштадт. Пока самолеты будут отвлекать орудия форта с воздуха, флотилия катеров ворвется в гавань, обстреляет два стоящих там линкора и снова уйдет, как это сделал Эгар с «Олегом». Потребуются еще катера — более крупные 17-метровые корабли, несущие две торпеды, — самолеты и новая посадочная полоса в Бьерке. Дата была назначена на середину августа, когда ночи станут темнее.
Пока аэропланы и новые катера добирались из Англии (самолеты — на переоборудованном крейсере, катера — на буксире), команда Эгара возобновила свои курьерские обязанности. Сам налет на Кронштадт состоялся в ночь с 17 на 18 августа. После всего одной репетиции и с двигателями, едва реанимированными после отсырения на буксировке, девять катеров отправились из Бьерке в сумерках. Погода была хорошей — тихой и пасмурной — и в полночь, собравшись у небольшой точки к западу от фортов, они были готовы к атаке. По плану первый катер должен был поразить сторожевик «Гавриил» у входа в гавань, а остальные — войти внутрь двумя волнами по трое, причем первая группа, возглавляемая наиболее опытными офицерами, должна была выйти до того, как войдет вторая. Их целями были линкоры «Андрей Первозванный» и «Петропавловск», корабль-склад подводных лодок «Память Азова» и сухой док гавани, без которого поврежденные корабли было бы сложнее отремонтировать. Эгар должен был привести катера ко входу в гавань, а затем ждать снаружи, блокируя выход из другого, соседнего бассейна меньшего размера. В это же время двенадцать бипланов должны были атаковать с воздуха, подавляя или, по крайней мере, отвлекая орудия на стенах гавани.
Зная, что у девяти лодок нет шансов пройти мимо фортов незамеченными, маленькая флотилия пронеслась между ними на полном ходу. Пулеметы грохотали, но им удалось пройти невредимыми, и они прибыли к входу в гавань как раз в тот момент, когда самолеты совершали свой первый бомбовый налет. Пока кронштадтские моряки разбегались по своим позициям, первый из катеров проскочил через устье гавани — к счастью, не перекрытое боновым заграждением — и направился прямо к «Памяти», привязанной к центральному пирсу. Он выпустил торпеду, и «Память» вспыхнула. За пределами гавани катер, в задачу которой входило вывести из строя сторожевик «Гавриил», промахнулась, и «Гавриил» смог разнести его на куски. Пока его экипаж плавал в воде, два оставшихся катера первой волны совершили атаки на «Первозванный» и «Петропавловск», пришвартованные в левом углу гавани. С большим мастерством — маневр заключался в выключении одного двигателя, резком повороте налево, а затем повторном включении, и все это под огнем — они оба поразили свои цели и, пока дым вырывался из пораженных кораблей, с ревом устремились вон из гавани.
Здесь налет должен был прекратиться. Все цели, кроме сухого дока, были успешно поражены. Один катер был уничтожен, его экипаж убит или ранен, а шкипер катера, атаковавшего «Петропавловск», был ранен в голову. Воздушная атака была почти исчерпана — только два самолета еще пикировали на орудия гавани, — и защитники фортов теперь палили из всего, что у них было. Два из трех катеров второй волны — один выбыл раньше из-за поломки двигателя — тем не менее совершили заход, как и планировалось, и столкнулись с катастрофой. Первый сразу же остановился, его карбюратор был поврежден пулями или осколками. Второй понесся в устье гавани, где на полной скорости столкнулся с последней из выходящих лодок первой волны. Освещенные прожекторами, оба судна беспомощно барахтались, пока выживший экипаж наиболее поврежденного из них забирался в другой. Удивительно, но им удалось завестись, выйти из гавани и выпустить торпеды по ожидавшему их «Гавриилу». Они промахнулись, «Гавриил» открыл огонь, и катер затонул. Вернувшись в Биорко, выяснилось, что два человека погибли или умерли, а семнадцать пропали без вести, считаясь погибшими. Позже выяснилось, что девять человек из числа пропавших были извлечены из воды «Гавриилом», в результате чего число погибших сократилось до десяти. (Спасенные люди были возвращены в Британию в результате обмена пленными семь месяцев спустя). Несмотря на потери, это была потрясающая акция: горстка небольших фанерных моторных лодок потопила или вывела из строя три самых тяжелых боевых корабля Красного флота в его собственной крепости-гавани.
Коуэн тем временем разрабатывал новый дерзкий план — налет на сам Кронштадт. Пока самолеты будут отвлекать орудия форта с воздуха, флотилия катеров ворвется в гавань, обстреляет два стоящих там линкора и снова уйдет, как это сделал Эгар с «Олегом». Потребуются еще катера — более крупные 17-метровые корабли, несущие две торпеды, — самолеты и новая посадочная полоса в Бьерке. Дата была назначена на середину августа, когда ночи станут темнее.
Пока аэропланы и новые катера добирались из Англии (самолеты — на переоборудованном крейсере, катера — на буксире), команда Эгара возобновила свои курьерские обязанности. Сам налет на Кронштадт состоялся в ночь с 17 на 18 августа. После всего одной репетиции и с двигателями, едва реанимированными после отсырения на буксировке, девять катеров отправились из Бьерке в сумерках. Погода была хорошей — тихой и пасмурной — и в полночь, собравшись у небольшой точки к западу от фортов, они были готовы к атаке. По плану первый катер должен был поразить сторожевик «Гавриил» у входа в гавань, а остальные — войти внутрь двумя волнами по трое, причем первая группа, возглавляемая наиболее опытными офицерами, должна была выйти до того, как войдет вторая. Их целями были линкоры «Андрей Первозванный» и «Петропавловск», корабль-склад подводных лодок «Память Азова» и сухой док гавани, без которого поврежденные корабли было бы сложнее отремонтировать. Эгар должен был привести катера ко входу в гавань, а затем ждать снаружи, блокируя выход из другого, соседнего бассейна меньшего размера. В это же время двенадцать бипланов должны были атаковать с воздуха, подавляя или, по крайней мере, отвлекая орудия на стенах гавани.
Зная, что у девяти лодок нет шансов пройти мимо фортов незамеченными, маленькая флотилия пронеслась между ними на полном ходу. Пулеметы грохотали, но им удалось пройти невредимыми, и они прибыли к входу в гавань как раз в тот момент, когда самолеты совершали свой первый бомбовый налет. Пока кронштадтские моряки разбегались по своим позициям, первый из катеров проскочил через устье гавани — к счастью, не перекрытое боновым заграждением — и направился прямо к «Памяти», привязанной к центральному пирсу. Он выпустил торпеду, и «Память» вспыхнула. За пределами гавани катер, в задачу которой входило вывести из строя сторожевик «Гавриил», промахнулась, и «Гавриил» смог разнести его на куски. Пока его экипаж плавал в воде, два оставшихся катера первой волны совершили атаки на «Первозванный» и «Петропавловск», пришвартованные в левом углу гавани. С большим мастерством — маневр заключался в выключении одного двигателя, резком повороте налево, а затем повторном включении, и все это под огнем — они оба поразили свои цели и, пока дым вырывался из пораженных кораблей, с ревом устремились вон из гавани.
Здесь налет должен был прекратиться. Все цели, кроме сухого дока, были успешно поражены. Один катер был уничтожен, его экипаж убит или ранен, а шкипер катера, атаковавшего «Петропавловск», был ранен в голову. Воздушная атака была почти исчерпана — только два самолета еще пикировали на орудия гавани, — и защитники фортов теперь палили из всего, что у них было. Два из трех катеров второй волны — один выбыл раньше из-за поломки двигателя — тем не менее совершили заход, как и планировалось, и столкнулись с катастрофой. Первый сразу же остановился, его карбюратор был поврежден пулями или осколками. Второй понесся в устье гавани, где на полной скорости столкнулся с последней из выходящих лодок первой волны. Освещенные прожекторами, оба судна беспомощно барахтались, пока выживший экипаж наиболее поврежденного из них забирался в другой. Удивительно, но им удалось завестись, выйти из гавани и выпустить торпеды по ожидавшему их «Гавриилу». Они промахнулись, «Гавриил» открыл огонь, и катер затонул. Вернувшись в Биорко, выяснилось, что два человека погибли или умерли, а семнадцать пропали без вести, считаясь погибшими. Позже выяснилось, что девять человек из числа пропавших были извлечены из воды «Гавриилом», в результате чего число погибших сократилось до десяти. (Спасенные люди были возвращены в Британию в результате обмена пленными семь месяцев спустя). Несмотря на потери, это была потрясающая акция: горстка небольших фанерных моторных лодок потопила или вывела из строя три самых тяжелых боевых корабля Красного флота в его собственной крепости-гавани.
Пётр Соколов (1891 — 1971) — русский футболист, крайний защитник сборной Российской империи. Рост 184 см. Чемпион России 1912 года в составе клуба «Унитас».
После Октябрьской революции 1917 г. — военный разведчик, боровшийся против советской власти. С 1923 г. практически возглавлял контрразведку русской эмиграции в Финляндии. С началом советско-финляндской войны (1939—1940) в звании капитана служил в отделе пропаганды Главного штаба финской армии. Обрабатывал и зачитывал сводки с линии фронта. Редактировал газету для военнопленных «Северное слово» (до сентября 1944 г.). Неоднократно выезжал в лагеря советских военнопленных на территории Финляндии и Карелии. С выходом Финляндии из войны в сентябре 1944 г. тайно покинул Финляндию (был одним из первых в списках СМЕРШа и комиссии Жданова) и через север перебрался в Швецию.
После Октябрьской революции 1917 г. — военный разведчик, боровшийся против советской власти. С 1923 г. практически возглавлял контрразведку русской эмиграции в Финляндии. С началом советско-финляндской войны (1939—1940) в звании капитана служил в отделе пропаганды Главного штаба финской армии. Обрабатывал и зачитывал сводки с линии фронта. Редактировал газету для военнопленных «Северное слово» (до сентября 1944 г.). Неоднократно выезжал в лагеря советских военнопленных на территории Финляндии и Карелии. С выходом Финляндии из войны в сентябре 1944 г. тайно покинул Финляндию (был одним из первых в списках СМЕРШа и комиссии Жданова) и через север перебрался в Швецию.
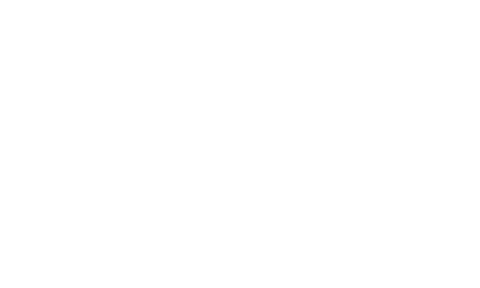
Когда первый лорд Адмиралтейства объявил о триумфе в кабинете министров, к его разочарованию, коллеги были не в восторге. Россия была отвлекающим направлением, а в условиях продолжающихся гневных демонстраций за демобилизацию, то, что Британия вообще участвовала в этом, не было поводом для шумихи. Но для военно-морского флота — относительно неактивного во время войны, и чувствовавшего себя малозадействованным — рейд стал новым импульсом. Вдобавок к награде Эгара были вручены еще два креста Виктории, четыре ордена «За выдающиеся заслуги» и кресты «За выдающуюся храбрость» для всех участвовавших в рейде. Рейд также сыграл важную роль в военном отношении. Эскадрилья Коуэна продолжала патрулировать и ставить мины, а Королевские ВВС — бомбить Кронштадт, где «Первозванный» был поднят и переведен в сухой док. Но во время Балтийской кампании произошло еще только одно столкновение кораблей — 31 августа 1919 года, когда красная подводная лодка потопила британский эсминец, — и с тех пор Юденич и эстонцы были в безопасности со стороны моря. Эгар сделал долгую военно-морскую карьеру, а после того, как в 1942 году японские пикирующие бомбардировщики потопили его корабль, ушел в отставку и стал выращивать клубнику. Из двух его оригинальных катеров один был списан, когда он и Били налетели на волнорез во время последнего шпионско-курьерского рейса. Другой, на котором он потопил «Олег», выставлен в военно-морском музее Портсмута, его длинные тонкие обводы как всегда остры."
Ещё из этой книги
Что случилось с самым успешным русским асом Первой мировой, и причем тут британцы.
Испытания британцами химического оружия на большевиках и мирных жителях Севера России в 1919 г.
Испытания британцами химического оружия на большевиках и мирных жителях Севера России в 1919 г.
Посты откроются в новой вкладке
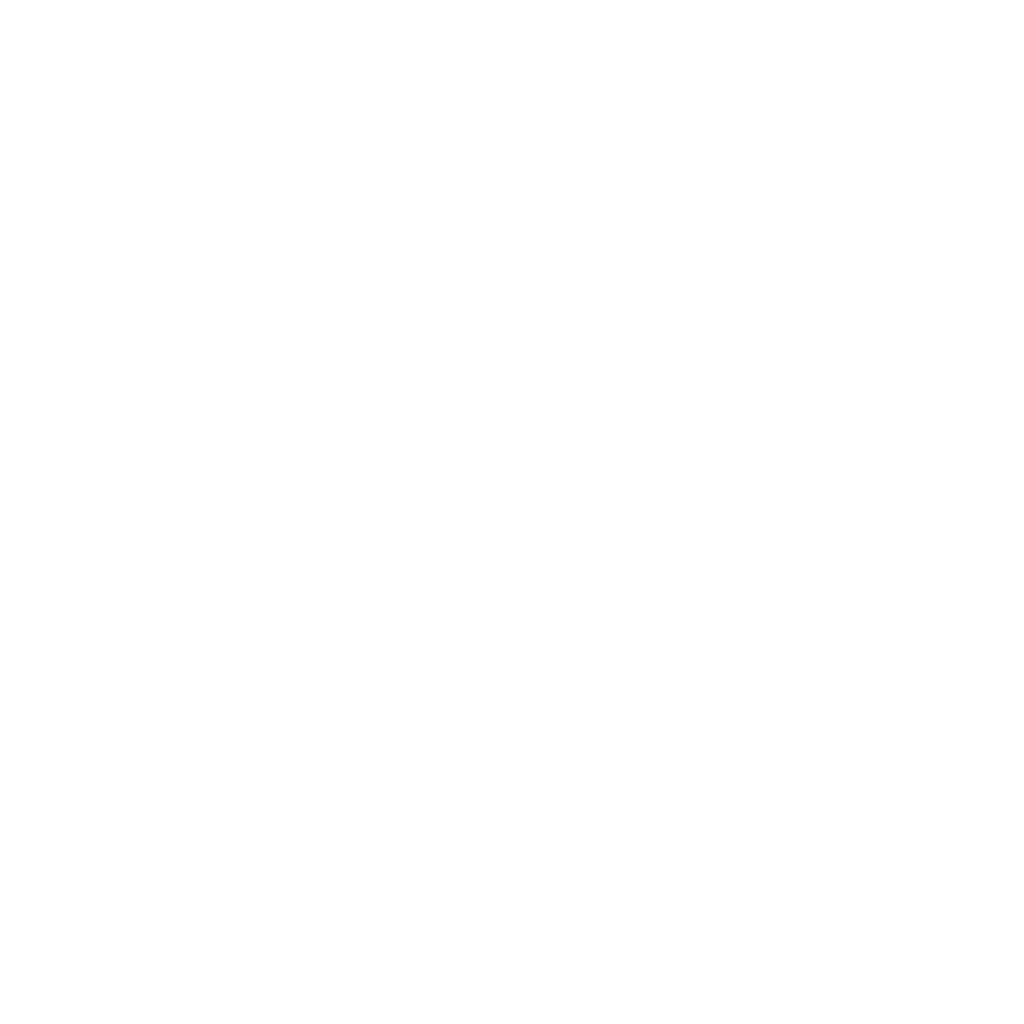
P.S.
«Короче говоря, для британского правительства деникинские резня и массовые изнасилования были побочным вопросом, вызывавшим серьезную озабоченность лишь постольку, поскольку они приводили к политическим неудобствам. Назидательные телеграммы были жестами, их не воспринимали всерьез да на это и не рассчитывали. Ни на одном этапе правительство не заявило Деникину, что, если погромы не прекратятся, оно отзовет военную помощь, и даже не рассматривало такой вариант. Напротив, вплоть до его окончательного поражения новые займы и поставки продолжали поступать. Погромы, которые почти не фигурировали в тогдашних дебатах и в последующих работах историков, сразу дают ответ на вопрос «Стоила ли интервенция того?». Даже на расстоянии столетия, когда убийства 1919 года давно затмил Холокост, тот факт, что Британия сознательно финансировала, снабжала, обучала и отправляла людей воевать рука об руку с армиями, совершившими эти преступления, шокирует и является позором».
Из «Маленькая мерзкая война: вмешательство Запада в гражданскую войну в России», Анна Рид.
Из «Маленькая мерзкая война: вмешательство Запада в гражданскую войну в России», Анна Рид.
